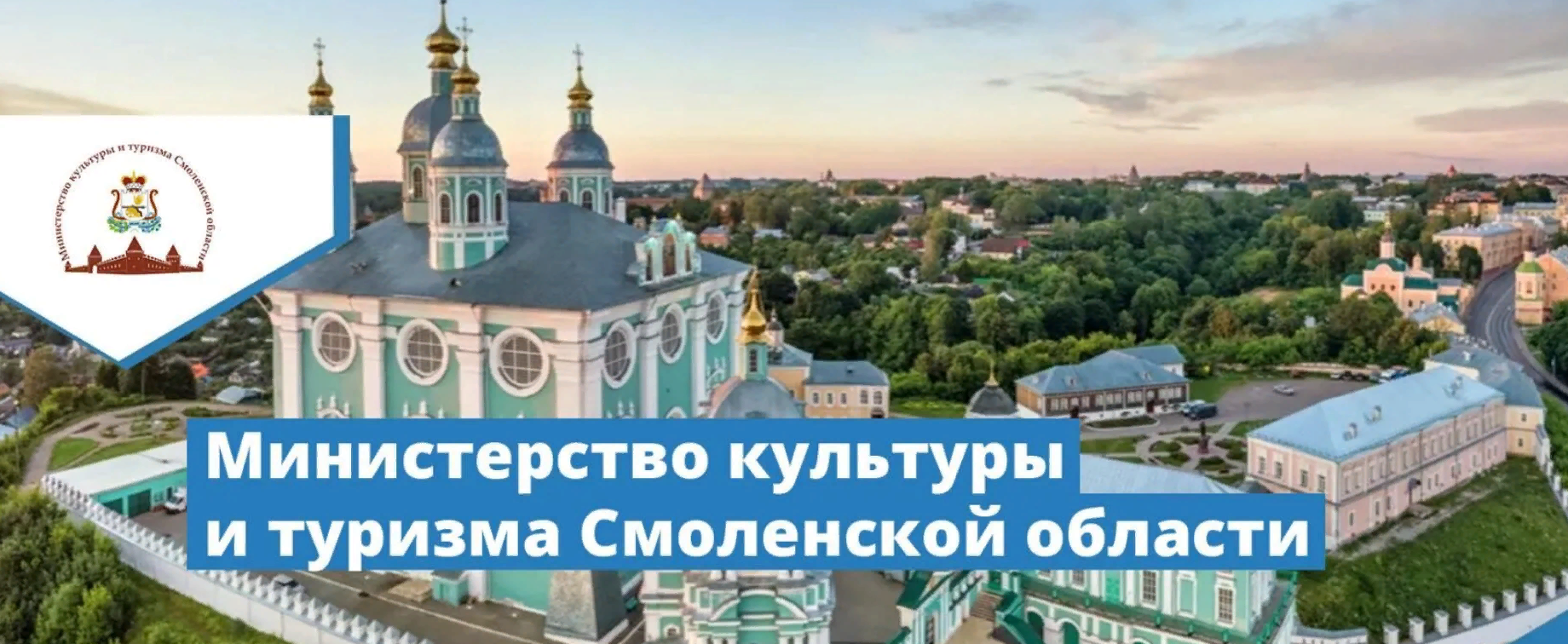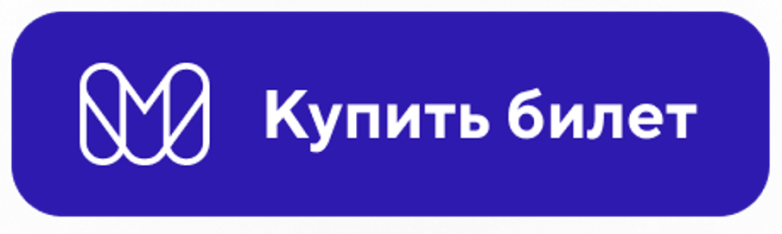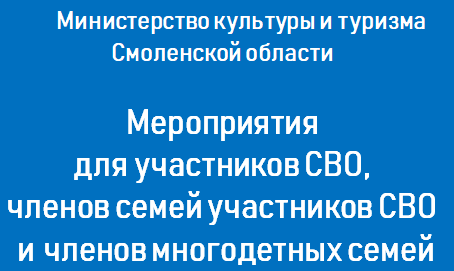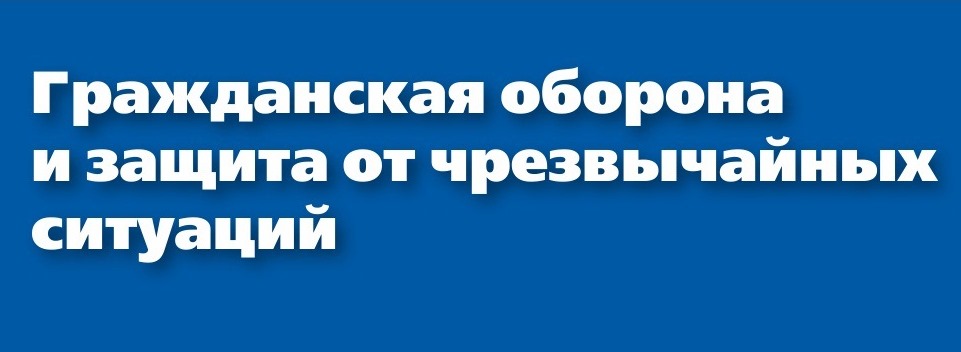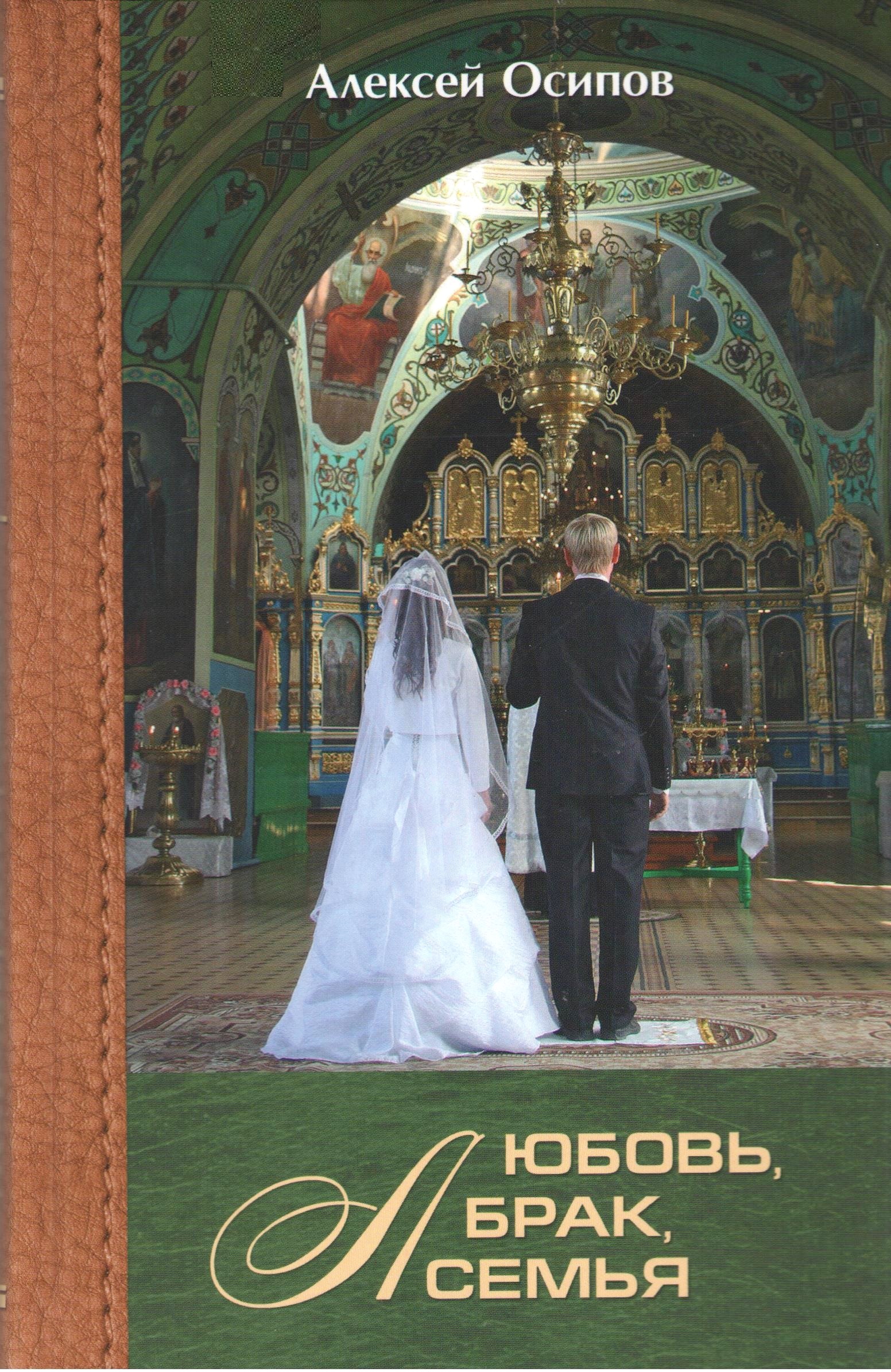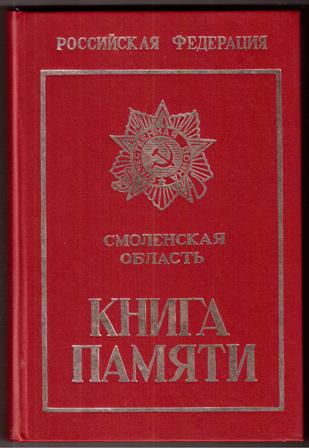Интервал между буквами (Кернинг):
- Главная
- Великой Победе посвящается
- И грянул бой...
- Косарев Г.И. «Люди и звери» (Главы: 1, 2, 4, начало 7-й)
И грянул бой...
Косарев Г.И. «Люди и звери» (Главы: 1, 2, 4, начало 7-й)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Низкие серые, как дым, тучи беспросветно застилали небо. Клубясь и обгоняя друг друга, они быстро неслись куда-то и холодными потоками дождя хлестали побуревшую землю. Оглушительно, с треском то в одном, то в другом месте рвались снаряды, и на фоне туч вспыхивали их отсветы. Порывистый осенний ветер, завывая, с остервенением срывал с деревьев последние желтые листья.
Плотный, коренастый, в грязной, насквозь промокшей шинели, Никифор Феодосиевич Зорак медленно, ползком, волоча раненую ногу, продвигался вперед. Лицо его осунулось и смертельно побледнело, а крупные обветренные губы окаймились синим ободком. Он часто хватался за грудь, стараясь хоть немного приглушить жгучую боль где-то под ложечкой. Опершись руками на размокшую землю и приподняв немного голову, Никифор Феодосиевич раскрыл рот и стал жадно ловить прозрачные капли дождя, а затем нагнулся и отпил из лужицы несколько глотков мутной воды. Утолив жажду, он смахнул рукой с коротко остриженных черных усов зацепившуюся травинку и снова пополз. В стороне послышались шорох и треск сучьев. «Фашисты»,- мелькнуло в его сознании, и он решительно схватился за пистолет.
«Нет, живым я вам не сдамся!» - подумал он и тут же, почувствовав головокружение, застонал, а потом повалился на спину. Перед глазами мелькали извилистые огненные линии, а все окружающее погрузилось во мрак. Он потер глаза н на мгновение увидел бурое небо, которое вдруг вздыбилось, закачалось и, упав, безжалостно придавило его своей тяжестью.
Никифор Феодосиевич лежал без движения. Время от времени к нему возвращалось сознание. Оно было смутное и тут же угасало. Он не мог понять, где находится. Ему чудилось безбрежное клокочущее море, захлестывавшее его. Хотелось подняться на ноги, стряхнуть навалившуюся тяжесть, но острые камни, как шипы, впивались в тело и не позволяли шевелиться. С мучительной болью он напрягал свои силы, чтобы уйти от грозящей опасности. Но из-за темно-красного камня выползла гадюка. Извиваясь, она коснулась его ноги. Никифор Феодосиевич не выдержал и тревожно закричал:
- Помогите!
Этот отчаянный крик был его пробуждением. Он испуганно открыл глаза и провел рукой по лицу. Оно было мокрое, в брызгах липкой грязи.
- Где я? - произнес он, стал осматриваться и прислушиваться. Земля, словно мать, потрясенная горем, стонала. Пахло гарью. Вдалеке грохотала артиллерия, радом сиротливо покачивался на ветру чахлый, потемневший кустарник. Зорак посмотрел вправо, влево и вздрогнул: в нескольких метрах от пего ничком лежал солдат. Руки его были широко раскинуты, казалось, он старательно обнимал желтоватую глинистую землю. Еще дальше дымились исковерканные остовы танков, торчали наполовину засыпанные землей орудия. Никифор Феодосиевич перевел взгляд на край воронки и увидел окровавленного бойца в зеленой каске.
«Прощай, друг!» - мысленно обратился он к нему.
Что же все-таки произошло? Вон там была позиция артиллеристов. Они упорно дрались с фашистами. Когда кончились боеприпасы, вражеский танк влетел на огневую, подмял несколько орудий и устремился вперед. Два артиллериста, завидев стальное чудовище, бросились бежать. Никифор Феодосиевич не выдержал и повелительно скомандовал:
- Стойте! Ни шагу назад!
Бойцы упали, а он, подхватив связку гранат, кинулся навстречу приближающейся машине. Затем прильнул к земле и изготовился к броску. Пули со свистом впивались, вокруг него в землю, стальное чудовище надвигалось быстро, и Никифору Феодосиевичу казалось, что вместе с разбухшей землей оно неудержимо тянет под свои стальные гусеницы и его.
Он метнул связку. Раздался взрыв, и танк, вздрогнув, застыл на месте.
Бойцы обрадованно закричали. Он обернулся и махнул им рукой. А через несколько секунд, вскрикнув от боли, схватился за ногу. В сапог потекла кровь. Достав из медицинской сумки ножницы, он разрезал штанину и перевязал рану. Потом подполз к небольшой белой березке и, как живую, ласково погладил ее по стволу...
Вспомнив все это, Зорак крикнул:
- Эй, товарищи, помогите!
Послышались голоса. Никифор Феодосиевич закрыл глаза и тут же вновь потерял сознание.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Его привезли в Смоленск и поместили в немецкий госпиталь для русских военнопленных. Госпиталь располагался в здании фельдшерско-акушерской школы и был переполнен советскими воинами. Они лежали прямо на холодном полу, голодные, не получая медицинской помощи. Гестаповцы систематически прочесывали палаты, отбирая командиров, политработников, коммунистов и ежедневно до сотни человек вывозили куда-то в черных закрытых машинах.
Будучи врачем-хирургом Никифор Феодосиевич сам старался лечить свою рану, но она не заживала. Появились признаки гангрены. Рану осмотрел хирург Анатолий Иванович Чижов. Он был мобилизован немцами для работы в госпитале. Никифор Феодосиевич знал его до войны по совместной работе. Вмешательство хирурга не улучшило положение. Как-то после осмотра он сказал;
- Дело ваше неважное. С ногою придется расстаться.
Никифор Феодосиевич бурно запротестовал, но прошло три дня и,он понял, что его возражения были бессмысленными.
Всю ночь накануне операции Никифор Феодосиевич не спал, в ушах звучали стоны и вопли раненых, а в воображении вставали образы жены, сына, матери. Много раз он вспоминал о них, жаждал встречи с ними, но никогда, кажется, не были они столь нужны ему, как в эти часы. Вспоминалось, как далеко на юге, в горах Дагестана, он встретил девушку. Она показалась ему необычной, не такой как другие. Ее черные глаза светились неповторимым блеском и теплотой. Каждый день он подолгу бродил возле ее дома, искал ее, грустил. Однажды на танцевальной площадке он пригласил ее на вальс. Она с улыбкой приняла приглашение, и они стали радостно кружиться. Прошло несколько дней, и он признался девушке в любви. Она смущенно слушала и смотрела на него милым, ласковым взглядом. И этот взгляд навсегда остался в его памяти.
«Где ты, Таня?» - мысленно обращался он к ней и тут же перед его глазами появлялся сын. Казалось, что он вот-вот, как и раньше потянет к нему свои ручонки и, обвив шею отца, примется уверять: «Папа, завтра я поймаю для тебя большого, большого жука. Вот такого…»
- «Милый Сашок! – проговорил Никифор Феодосиевич, и на его глазах заблестели слезы.
Потом он попытался приглушить тяжелую боль в сердце, отвлечься от воспоминаний, уснуть, но еще долго не мог этого сделать.
Утром он лег на операционный стол.. А когда очнулся после операции, вдруг ощутил, что кто-то настойчиво щекочет ему пятку правой ноги. Раз, другой, третий – так, что захотелось улыбнуться. И он улыбнулся: «Что за чертовщина! Кто это балуется?»
Он открыл глаза. Взгляд его остановился на ногах. Из-под покрывала-мешковины торчала левая нога. «А где же правая? Нет ее. Пустота…» На лице вспыхнули багровые пятна. Зашевелились густые черные волосы «Что я теперь? – подумал он. – Калека. Инвалид. Будьте вы прокляты, двуногие звери из коричневой клоаки!»
Но негодование пришлось скрыть: в каждой палате фашисты имели свою агентуру, и за малейшую неосторожность в разговоре людей брали на подозрение.
Все же Никифор Феодосиевич находил возможность поделиться своими мыслями с теми, кому он доверял. Дружеские отношения сложились у него с соседом, солдатом Дмитрием Даниловым. Раненый под правую лопатку, он был прикован к постели. Перешептываясь с Никифором Феодосиевичем, Дмитрий изливал ему свою душу. Они подолгу вспоминали былое, тяжело переживали наши неудачи на фронте. Никифору Феодосиевичу нравилась пылкая и открытая душа этого человека, и он относился к нему как к родному брату. Здоровье Дмитрия не улучшалось. Он становился все более вспыльчивым, раздражительным, терял самообладание. Когда из палаты уводили кого-либо на расстрел, Дмитрий еле сдерживался от открытого возмущения, а потом, натянув что-нибудь на лицо, принимался рыдать. Никифор Феодосиевич в такие минуты утешал его, стараясь отвлечь от угнетающих мыслей. Как-то раз из палаты были взяты трое раненых. Никифор Феодосиевич, стиснув зубы, обернулся к соседу. Дмитрий, не спускавший глаз с товарищей, навсегда покидавших палату, был необычно бледен.
- Митя, крепись! – шепнул ему доктор. – Этим горю не поможешь.
Дмитрий ничего не ответил и перевел взгляд на потолок.
- Тебе плохо? – спросил его Никифор Феодосиевич.
- Конечно. Разве это жизнь? – ответил Дмитрий. – Лучше умереть сразу, чем жить в вечном страхе.
- Умереть никогда не поздно, - возразил доктор. – Надо еще побороться.
- А что мы можем сделать, такие калеки? Да и как отсюда выбраться? Это же не госпиталь, а дом смерти. Голод сотнями отправляет нас на тот свет, а кто выживает, тот становится мишенью для фашистов.
- Да, это так, - согласился Никифор Феодосиевич. – И все же нам нельзя терять веру. Этого требует жизнь, этого требует Родина… Вот только нога меня подвела, - с досадой добавил доктор и принялся осматривать культю.
В зто время в палате появился немецкий офицер. От запаха он сморщил лицо, зажал нос пальцами и напряженно обвел раненых своим отупевшим взглядом. Он медленно шагал между рядами раненых и остановился напротив Дмитрия.
- Фамилия? - грубо, на ломаном русском языке спросил он солдата.
- Данилов.
- Где ты работал до войны?
- В Бородинском военно-историческом музее.
- В музее? – удивился, словно что-то припоминая, вторил фашист и, подумав, добавил: - значит, большевик.
- Нет, беспартийный, спокойно ответил Данилов.
Офицер сощурил глаза и криво усмехнулсяи закричал:
- Врешь, большевицкая свинья! У тебя и волосы причесаны, как у большевика. Встать.
Неожиданно немец повернулся и ударил Дмитрия плетью по лицу. На щеке появился красный рубец. Раненый попытался подняться, но ему не удалось. Тогда офицер стал избивать его. Униженный издевательством, преодолевая невыносимую боль, Дмитрий, наконец, поднядся и возмущенно произнес:
- На, бей, гадюка! Я говорю, бей! Тебе легче от этого не будет. Я хоть и не коммунист, но ненавижу тебя.
Дмитрий качнулся в сторону офицера и плюнул ему в лицо.
Взбешенный фашист левой рукой принялся стирать плевок, а правой выхватил из кабуры пистолет и двумя выстрелами в упор убил солдата. В палате на мгновение установилась мертвая тишина.
- Господин офицер, это бесчеловечно, это вопиющее беззаконие! Вы не имеете права поступать так с ранеными! – резко проговорил Никифор Феодосиевич.
- Молчать, собака! Если произнесешь еще хоть одно слово, я тебя отправлю на кладбище, - пригрозил фашист и выскочил из палаты.
Прошел час, другой. Убитого унесли, но в палате по-прежнему было тихо.
Потрясенный гибелью товарища, Никифор Феодосиевич не находил себе места. Ноющая боль сдавливала ему грудь, а в ушах стоял пронзительный треск выстрелов. К вечеру на место убитого санитары положили нового солдата. Он стонал и боязливо поглядывал по сторонам. Бледный и испуганный он повернулся к Никифору Феодосиевичу и стал просить о помощи.
- Товарищ, дорогой, нога отекла, посмотри, что с ней.
Никифор Феодосиевич поднялся и сел возле нового соседа. Потом он стал стягивать сапог с его ноги. Раненый сильно застонал. Разыскав среди лохмотьев в изголовье бритвенное лезвие, Зорак разрезал голенище. Потемневшая кровь полилась на пол, но сапог по-прежнему держался на ноге. Казалось, он был приклеен. Пришлось разрезать и штанину, после чего на ноге обнажилась рана. Доктор осмотрел ее и обнаружил раздробленную кость на четверть выше ступни.
- Браток, что там у меня?
- Плохо, друг, потерпи… - ответил доктор. – Придется накладывать гипс, может и обойдется все по-хорошему. А зовут тебя как?
- Опанасом, - ответил раненый, - а фамилия Василенко. Из-под Харькова я.
В палату вошла медицинская сестра, белокурая женщина средних лет. Никифор Феодосиевич подозвал ее и, указав на раненого, попросил обработать рану. Женщина сначала удивленно посмотрела на него, но, встретив повелительный взгляд доктора, молча, вышла из палаты и принесла два свертка желтого бинта, пузырек спирта, медикаменты. С помощью Никифора Феодосиевича она удалила с ноги кровь, сделала какой-то укол и наложила повязку. Больной почувствовал облегчение и на время закрыл глаза. Потом он шепотом начал расспрашивать доктора о порядках в госпитале.
- Какие порядки ты сам видишь, а обо всем остальном узнаешь со временем, - ответил Никифор Феодосиевич.
Василенко тяжело вздохнул и шепотом пожаловался:
- Жить стало страшно. Куда не пойдешь, всюду смерть разгуливает. И меня приголубила она, да резанула не под корень. Здесь, видно, доканает.
- Ничего, держись, товарищ! Я сестрице шепнул, чтобы ускорила операцию. Поправимся, настоящими людьми будем, - успокоил его НикифорФеодосиевич и поинтересовался: - А ранили тебя где?
Василенко посмотрел в глаза Никифору Феодосиевичу, пододвинулся к нему ближе:
- Дрались мы за Смоленск. Контузило меня. Потом попал в окружение и в плен. Собрали нас несколько тысяч и, как скот, погнали. Бормочут гады, дескать, Красной Армии капут. Когда проходили по селам, бабы смотрели на нас и плакали, украдкой совали хлеб, яйца, яблоки. Последние два дня не пили мы, не ели. Кто отставал, тех сразу же на тот свет. Пришли в Смоленск. На ногах еле держимся. На одной из улиц, с крутым подъемом, колонна немного растянулась. Ироды, вроде этого только и ждали, - с каким-то внутренним вздохом произнес Василенко, - сначала открыли огонь по отстающим, а затем начали расстреливать всех подряд. Убитые застелили всю улицу, а раненые, переползая через убитых своих товарищей, старались где-либо укрыться. Снег на улице стал красным от крови. У меня что-то хрустнуло в ноге. Кинулся в сторону, но бежать не мог. Упал на колени и очнулся в кювете.
Василенко говорил почти шепотом, но находившиеся поблизости раненые, напрягая слух, не пропускали ни одного его слова.
- Потом меня подобрали и…сюда, закончил он и провел рукой по бледному, обросшему лицу.
- Братцы, что же это такое? – сказал высокий, худой солдат.
- Людоеды! Звери! – отозвался второй.
- Осторожно, друзья! – заметил Никифор Феодосиевич и покачал головой. Когда больные разошлись, он нагнулся к Василенко и шепнул: - Какое варварство, уму непостижимо! Придет время, фашисты за все это ответят!
- Это нельзя простить, - сказал Василенко и, откинувшись навзничь, тихо простонал.
Никифор Феодосиевич промолчал и, поджав руки под голову, погрузился в раздумье. Изо дня в день терзали его тоска и тревога. Все мучительнее становился голод. Слабых и обессиленных он отправлял на тот свет.
Как-то в палату вошли три женщины. Они растерянно уставились на больных, на их лицах застыли страх и ужас от всего, что предстало перед ними. Раненые повернулись в сторону женщин и, не спуская с них глаз, начали умолять о помощи, просить есть, пить. Некоторым счастливым досталось по кусочку хлеба. Круглолицая женщина с рябинками на щеках, вытерев глаза от слез, боязливо спросила:
- Родненькие, а нет ли среди вас Леонова?
Сначало в палате все притихли, а потом один из раненых ответил:
- Леонова нет.
- А Кондрашова? – робко спросила вторая.
- И, Кондрашова нет, - послышался ответ.
- А Беркутов есть? – спросила третья.
- Беркутов есть, - быстро ответил один из раненых и резко повернулся к ней.
Женщина подбежала к нему, но радость надежды, блеснувшая в ее глазах, сразу потухла: больной, отозвавшийся на ее вопрос, ничем не напоминал того, кого она искала.
- А зовут-то тебя как?
- Иваном.
- А моего Николай, - с огорчением пояснила она. Никифор Феодосиевич подозвал женщин к себе.
- Не сможете ли вы, - сказал он, - сходить в окрестные села и собрать там продовольствия?
Женщины молча, переглянулись, подумали.
- Ладно, - произнесла одна из них, - попробуем…
Спустя несколько дней, они привлекли к этому делу своих знакомых и регулярно стали приносить в палату картофель, хлеб, а иногда и сахар. Они организовали также уход за ранеными, навели, как могли, чистоту в палатах, позаботились о стирке и замене белья, приносили украдкой книги и даже советские листовки. Положение раненых заметно улучшилось, многие спаслись от голодной смерти. Так продолжалось около двух месяцев. Потом немцы заподозрили что-то и отказались от добровольной помощи женщин по уходу за ранеными. Они категорически запретили, кому бы то ни было из посторонних посещать госпиталь.
После операции Никифор Феодосиевич немногоокреп, но рана на ампутированной ноге заживала медленно. Между тем положение его осложнялось. Он давно замечал недружелюбное отношение к себе одного из раненых, который держался нагло, к окружающим относился с презрением, льнул к немцам и часто отлучался из палаты. Это был Аркадий Махнев, окончивший перед войной медфак в Ленинграде. Стало ясно, что он выявляет командиров, коммунистов евреев, а затем сообщает о них немцам. Вступая в разговор с Никифором Феодосиевичем, Махнев неоднократно со злобой называл его «жидом» и открыто угрожал расправой.
Никифора Феодосиевича охватила тревога. Ему нужен был какой-то выход, чтобы отвести нависшую угрозу, и он поделился своими опасениями с Чижовым. Хирург, выслушав его, сказал, что он уже и сам думал обо всем этом и даже заручился поддержкой начальника госпиталя. Зораку он посоветовал оставить госпиталь. Никифор Феодосиевич поблагодарил своего бывшего коллегу и крепко пожал ему руку. А через два дня получил удостоверение, в котором значилось, что он, Зорак Никифор Феодосиевич, освобождается из госпиталя и, как вполне лояльный к немецким властям, рекомендуется для использования на работе по своей специальности.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Через несколько дней Никифор Феодосиевич подрядил подводу и выехал в Монастырщину. Возница Кузьма Иванович был из местных крестьян. Его лицо, окаймленное редкой седой бородкой, было хмуро. Маленькие желтые глаза смотрели куда-то вдаль, слезились. В пути Кузьма Иванович был молчалив, только частенько покашливал. На ухабах сани подпрыгивали. Никифор Феодосиевич чувствовал боль в культе, но терпеливо переносил ее и даже пытался шутить.
«Чем-то обижен», - поглядывая на старика, думал он и сочувственно спросил: - Вам, что нездоровится, Кузьма Иванович? Может быть нужна помощь?
Кузьма Иванович резко повернулся и спросил:
- А ты, что, доктор?
- Да, был… и остался.
- А по каким болезням?
- Хирург я, Кузьма Иванович. А что у вас болит?
- Я-то здоров. Сам черт меня не берет. О сыне пекусь, пропадает он: рассудка лишился, - пояснил Кузьма Иванович и, нахлобучив на лоб черную баранью шапку, раздраженно почесал затылок.
- А, что с сыном-то случилось? – поинтересовался Никифор Феодосиевич.
Старик помолчал, вздохнул, а потом ответил:
- Пришли немцы, стали молодых ребят в лагеря забирать. Что делать? Думаю: погибнет парень. А тут подвернулся кум. Он у немцев кем-то в управе служит. Возьми и посоветуй в охрану сына пихнуть. Ну и пихнул. Дали ему оружие. С этого все и началось.
- И что же было дальше?
Кузьма Иванович некоторое время о чем-то раздумывал и, покашляв, ответил:
- Осенью возле Татарска собрали немцы евреев. Много. Несколько сот, целые семьи. Мишку, сына, тоже туда погнали, на охрану. Арестованных обыскали, отобрали у них ценности и вдруг через несколько дней ни с того ни с сего начали расстреливать.
- И сын твой расстреливал?
- Нет, истинный бог! – Старик перекрестился. – Не расстреливал. Видел он, как живьем старушку с внучкой в землю закопали… А потом ему велели в друга его, Борьку, с которым учился вместе, стрелять. Он отказался, но немецкий унтер навел его винтовку и нажал его пальцем на спуск…
Никифор Феодосиевич заскрежетал зубами и с неприязнью посмотрел на старика.
- Не ест, не пьет сын теперь, кормим силой. Сна лишился, своих не узнает. Днем и ночью зовет товарища, бредит, кричит!
Никифор Феодосиевич, натянув на голову воротник, погрузился в раздумье. За весь оставшийся путь он не проронил больше ни слова.
Монастырщина встретила Зорака неприветливо. Поселок был разрушен и казался вымершим. С горьким чувством зашел Зорак к районному врачу Крымскому. Тот, выслушав доктора, ответил:
- Нет, вы нам не нужны.
- Я имел договоренность с госпожой Майер о работе в Досугове, - пояснил Никифор Феодосиевич.
- Об этом мне ничего неизвестно. Можете быть свободны, - указывая взглядом на дверь, произнес Крымский и уткнулся в папку с бумагами.
«Подлец, хоть бы каплю посочувствовал!» - возмутился про себя Никифор Феодосиевич. На улице он немного постоял, закурил, а затем медленно, опираясь на костыли, побрел по поселку. Он шел и не знал, что делать, где пристроиться, к кому обратиться. На одном из зданий прочитал: «Бургомистр». Задумался. Потом, сняв шапку и пригладив свои черные волосы, направился в помещение.
- Вы куда? – остановил его полицай.
- Я к бургомистру.
- Его нет.
- Тогда к его заместителю.
- А что вам нужно?
- У меня поручение, - пояснил Никифор Феодосиевич и протянул выписанное госпиталем удостоверение.
Полицай, молча, прочитал его, потом, возвратив, сказал:
- К бургомистру третья дверь направо.
Зорак подошел к двери, на которой была прибита дощечка с надписью: «Савельев Трофим Семенович». Постучав и не дождавшись ответа, он вошел в кабинет.
- Здравия желаю, ваше благородие! Разрешите обратиться?
Бургомистр взглянул на него и нехотя осведомился:
- В чем дело?
- Видите ли, господин Бургомистр, я врач-хирург, мне нужно устроиться на работу, и я хотел бы воспользоваться вашей любезностью…
Савельев еще раз внимательно осмотрел доктора и басовито процедил:
- Мне не до врачей, большевики покою не дают. Приходится ловить их и вешать. Если вы большевик, могу заверить – далеко от меня не уйдете.
Наглость бургомистра возмутила Никифора Феодосиевича. «Вот хам! - быстро пронеслось в его голове. – Неужели таким вот придется служить? Как же быть? Что-то надо придумать!... Я русский. Хочу служить своим… Но как это сделать? Устою ли среди этой твари?...» Мысли проносились подобно вспышкам молнии. В сердце покалывало. От волнения горело лицо. Чтобы не выдать внутренних переживаний, Никифор Феодосиевич напряг все свои силы и спокойно, с оттенком удивления ответил:
- Да, но я не большевик.
- А кто же вы? – переспросил бургомистр.
- Я просто специалист.
- И вдобавок еврей, - ехидно улыбнувшись, добавил Савельев.
- О, нет, вы ошибаетесь, господин бургомистр! Меня кое-кто принимает за еврея, но я русский, сын дворянина. Отец в свое время сражался в белой армии. После поражения ее он вместе с семьей пытался бежать за границу…
- И что дальше?
- А дальше произошло самое страшное, - немногодрожащим голосом, с наигранным переживанием пояснил Никифор Феодосиевич. - Под Херсоном мы были схвачены красными. Большевистские комиссары на наших глазах расстреляли отца, а меня с матерью выслали в Сибирь.
- Да, они много перестреляли нашегобрата…- посочувствовал бургомистр.
- В Сибири я осиротел окончательно и стал петлять по матушке России.
Рассказав наскоро прдуманную версию о своем происхождении, Никифор Феодосиевич тут же передал бургомистру удостоверение, выданное госпиталем. Савельев перечитал его и с сожалением произнес:
- Бедняга…Ну что ж, - вдруг решительно проговорил он, - я помогу…
Он тут же позвонил по телефону, а затем прошел с доктором в комендатуру и представил его военному коменданту, полному, самодавольному майору Берману.
К вечеру этого же дня Никифор Феодосиевич получил назначение и выехал на работу в Досугово.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Весна вступила в свои права. Снег быстро таял, обнажились поля, задорно бушевали реки. Никифор Феодосиевич принимал больных, посещал в деревнях семьи, неустанно изучал людей, «прощупывал» их настроение, отношение к оккупантам. Надежных товарищей он привлекал к работе.
Небольшой домик на околице села, где размещался медпункт, постепенно превратился в своеобразный штаб. Сюда из населенных пунктов волости ехали люди получать медицинскую помощь, а заодно, под видом посещения врача, шли связные и доверенные люди. Вместе с доктором работали комсомолки-подпольщицы Надя Семионенкова, Вера Бабкова, Зоя Подолякина, Надежда Барейшева.
Однажды, в теплый майский день на медпункт зашла Лидия Подолякина. Высокая, представительная, с играющем на щеках румянцем, она, казалось, олицетворяла собой что-то весеннее, радостное. Лида назвала доктору ряд лиц, пожелавших вступить в партизанский отряд, поделилась с ним новостями. Никифор Феодосиевич поблагодарил девушку и вручил ей несколько листовок. Лида спрятала их на груди под блузкой и присела к столу. За окном ярко светило солнце, мягко шелестела свежая зелень. В лесу куковала кукушка. На душе у девшки было радостно. Ей вдруг захотелоь увидеть того, о ком так упорно тревожилось ее сердце. Она взволнованно сказала:
- Я хочу посоветоваться с вами, Никифор Феодосиевич.
- О чем?
- Лида ответила не сразу. И когда она назвала Лукашова, доктор удивился.
- О Лукашове, начальнике полиции?
- Лида строго посмотрела на Никифора Феодосиевича и решительно подтвердила:
- Да, о начальнике полиции.
- А в чем дело?
- Я познакомилась с Лукашовым еще до войны, пояснила девушка, - встречались с ним зимой, и мне кажется, что настроен он не в пользу оккупантов. Об этом знает кое-кто из наших товарищей.
- Вот как! Это интересно! – удивленно заметил Никифор Феодосиевич.
- К сожалению, он вдруг поступил в полицию и тем самым озадачил своих друзей.
- Значит, предал интересы своего народа?
- Я почему-то еще не верю в это.
Слушая Лиду, Никифор Феодосиевич задумался: «Мы должны построить организацию на чисто конспиративных началах. Каждому члену ее не обязательно знать всех, кто в нее входит. При таком положении, в случае ареста отдельных товарищей, можно избежать провала всей организации. Особо важно сохранить тайну о начальнике полиции».
- Я как-то упрекнула Лукашова в измене, - продолжала Лида. – А он улыбнулся и ответил. – «Не беспокойся, Лида, все в порядке». А потом двусмысленно добавил: «Наша возьмет. Мы победим». – «А кто это мы?» - переспросила я его. «А ты соображай!» - посоветовал он и перевел разговор на другую тему. Вот я и думаю: предатель ли он?
Никифор Феодосиевич не открыл девушке тайны о начальнике полиции. Лида вздохнула и с чувством огорчения вышла на улицу. Она шла и по-прежнему думала о Лукашове. Это было перед войной. Девочки передали записку от него. Она не ответила. Потом он уехал. И вот настало суровое время…
На повороте тропинки, словно поджидая ее, появился мужчина, Лида вздрогнула, хотела свернуть в сторону, но было уже поздно. Прямо к ней, загородив тропинку, вышел Лукашов. «Может ему уже все известно о моей принадлежности к организации, о Зораке? Может быть, он уже выследил меня и решил передать в лапы фашистов?»
- Пусти, дай пройти,- тихо сказала она Лукашову
- Нет, постой, мне надо с тобой поговарить.
- Поговорить? – усмехнулась девушка. – А о чем?
- Лида, что с тобой?
- Со мной ничего, а что с тобой?
- Послушай, - наступал Лукашов и протянул к ней руку.
- Убери свою лапу! – сердито сказала она и решительно двинулась вперед.
- Да подожди же. Что ты взбеленилась? Прошу тебя, выслушай!
Прищурив глаза, Лида с негодованием посмотрела на Лукашова:
- Не хочу я тебя слушать.
- Ну, знаешь, поосторожнее. Мне ведь известны твои проделки, - намекнул Лукашов как бы в шутку.
Но шутки не получилось. Лида остановилась, в ее глазах засветилось презрение:
- Я тебя ни капли не боюсь. Я ненавижу тебя с того самого дня, как только ты ушел в полицию, и готова плюнуть тебе в лицо!
- Лида, - умоляюще произнес Лукашов, но девушка не пожелала его слушать и, обогнув большую, с ровным белым стволом березу, удалилась.
Лукашов глубоко вздохнул. Он долго еще как заколдованный стоял на месте и смотрел в ее сторону. « Ну и характер! Текая не подведет!» - подумал он и, улыбнувшись, направился к медпункту.
В раздумье он вошел в кабине доктора. Надя Семионенкова пренебрежительно посмотрела ему вслед и ехидно, с гримасой, по-детски показала язык. Никифор Феодосиевич оторвался от работы и с беспокойством спросил:
- Ты нездоров, Иван Тихонович?
- Да нет, все в порядке, - ответил Лукашов и попросил доктора выйти на воздух. Через несколько минут они спустились к оврагу. Сначала шли молча. Потом Лукашов стал излагать план ухода из полиции.