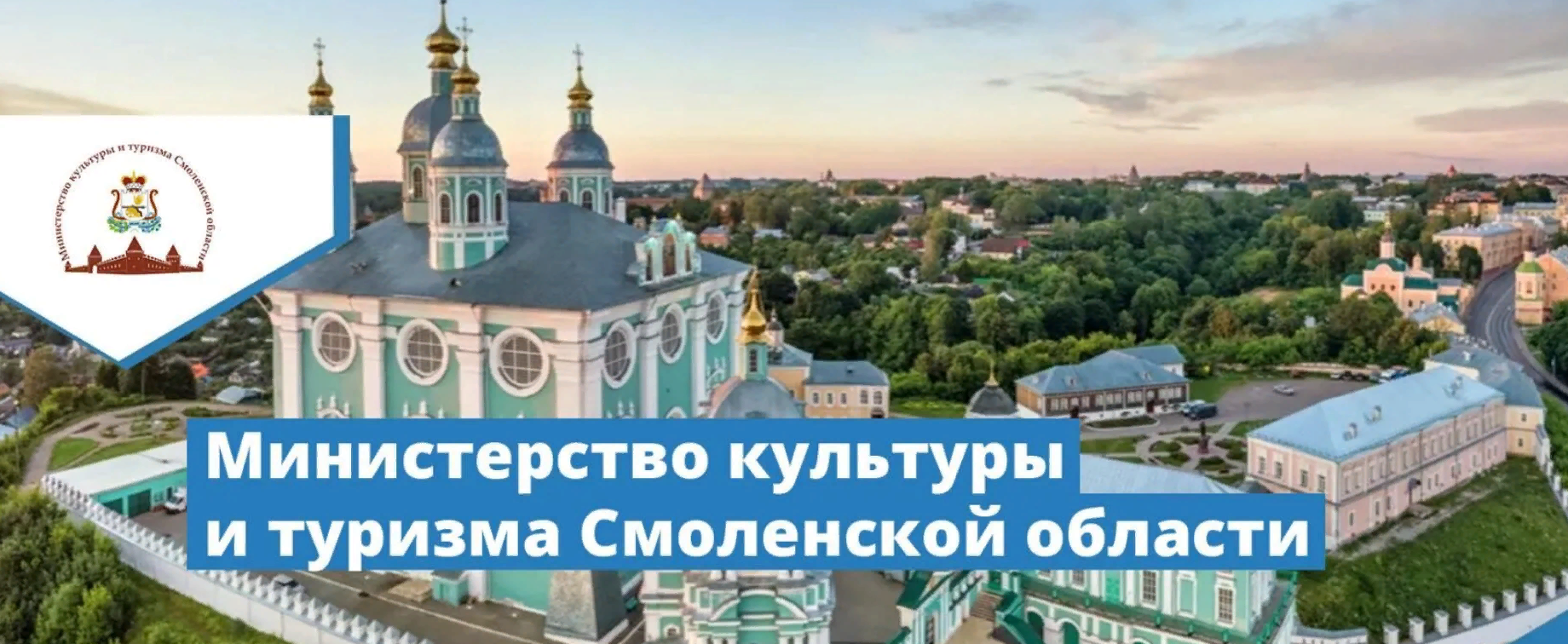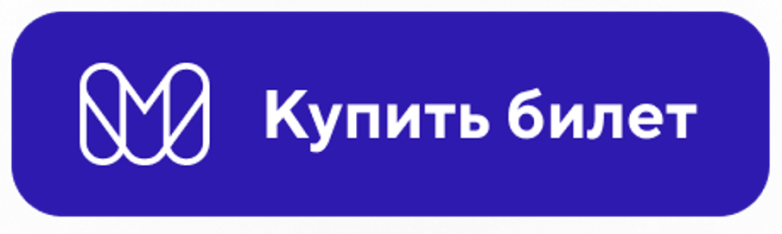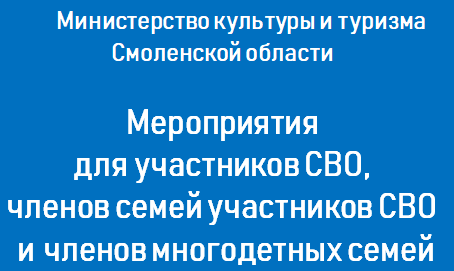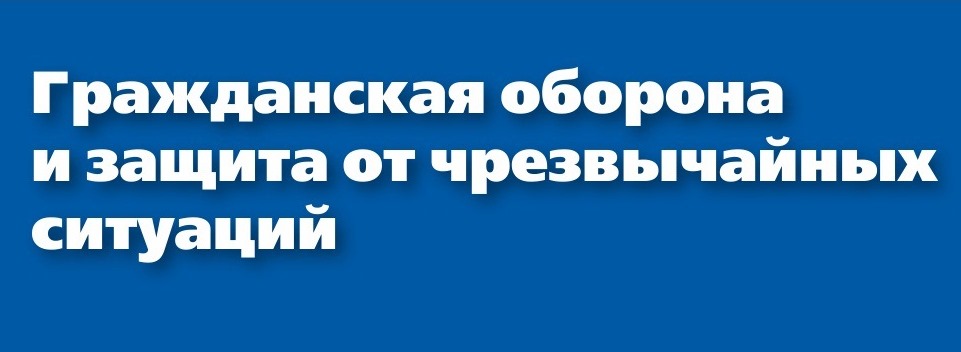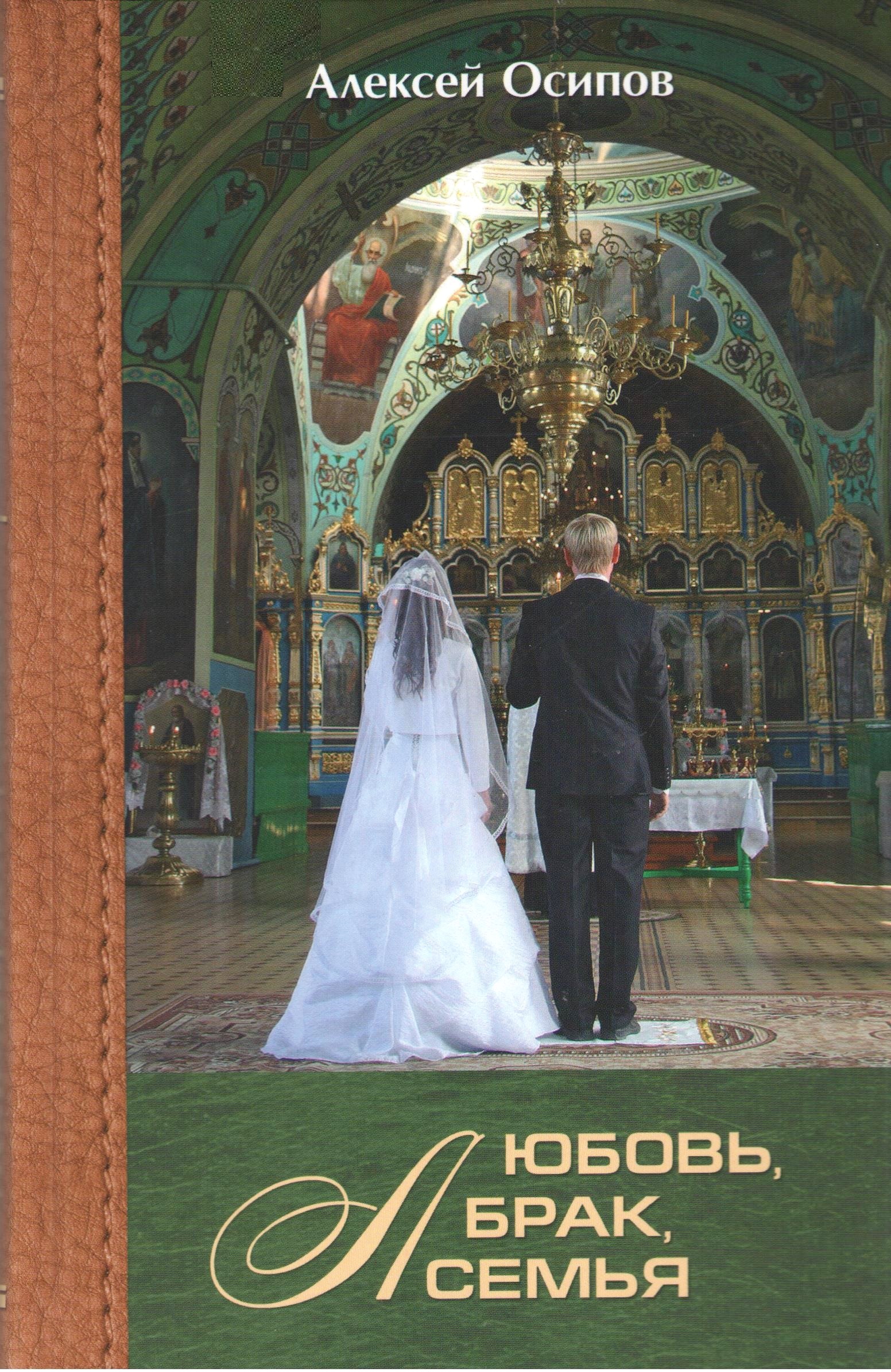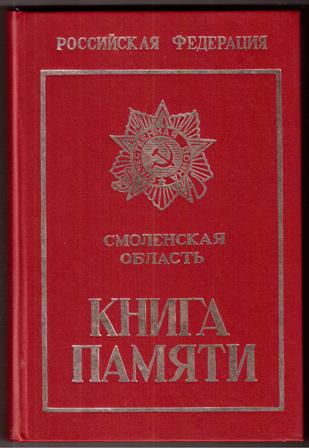Интервал между буквами (Кернинг):
- Главная
- Великой Победе посвящается
- Память как бессмертие
- Е.Я. Король «Мои воспоминания о войне» (продолжение)
Память как бессмертие
Е.Я. Король «Мои воспоминания о войне» (продолжение)
Солдат разместили в школьном здании, а офицеров по квартирам. Двух офицеров вселили к Тане Валуевой, и вдруг к одному из них, к Августу, у неё вспыхнула огромная любовь. Она была взаимной, потому что была открытой, счастливые лица, глаза... Он был офицером связи на спецмашине, может, ей что-то и рассказывал о положении на фронте, полезное партизанам. Но прошло Рождество, и немцы быстро организовали отъезд. Татьяна в отчаянии удерживала руки офицера и умоляла взять её с собой. Она словно очнулась и увидела все последствия в реальном свете. Зная отдельные русские слова, Август гладил её руки и твердил: «Таня, нельзя, война!». Толпа народа стояла молча, но едва отъехали немецкие машины, в Татьяну полетели, как камни, самые грубые ругательства! Согнувшись, словно постарев, плелась она, обессилев, домой. Ночью, бросив всё, ушла в деревню. Выпал обильный снег, ударили морозы, и всё чаще появлялись обозлённые, обмороженные немцы. Они вваливались в дома и требовали еды, забирали валенки, часто снимая их с ног хозяев, искали овчинные тулупы.
Жить при немцах было скудно: только на взрослых выдавали по 200 граммов на день сорного ячменя, да и то всего дважды. Его обдирали на ручных мельницах, варили похлёбку. Всю живность в домах они извели, у нас забрали коня, а когда папа пытался удержать корову, которая осталась от дядиного семейства, фашист своим кованым сапогом ударил его в лицо и выбил зубы! Вскоре в село пришли каратели и стали творить расправу. Староста, бывший завхоз больницы, выдал немцам раненых, которых содержали всем миром, собирая по домам для них прокорм и гражданскую одежду подлеченным бойцам, направляя их в отряд. Их вышвыривали на снег, избили всех работников больницы, запретив им работать, а корпус сожгли! Тогда раненых разместили в часовне на кладбище рядом с не работавшей церковью. Теперь они лежали на соломе, укрытые тем, что ещё нашлось в больнице и что дали жители. Фельдшер Анастасия Нестеровна Мельникова и медсестра Нина Александровна их лечили хлороформом. (После войны эти отважные женщины были награждены орденом Красной Звезды). Мы, дети, подбегали к закованным окнам и бросали им в щели от выбитых стёкол варёную картошку и бураки, сухари, а иногда и бутылки с тёплой водой просовывали. Взрослые приходили в темноте со своею помощью. Раненых оставалось человек 15, около 10 бойцов через семь дней ушли в лес, не знаю, кто помог, а человека четыре скончались на холодной соломе... В 1986 году в Переделе состоялась встреча спасённых раненых с медсестрой Ниной Александровной Якимович: их разыскали члены поисковой группы Передельской средней школы. Об этом были помещены материалы в газете «Правда» и в журнале «Крестьянка». Про эти ужасы и героизм простых людей снят короткометражный фильм.
Однажды в конце ноября нам блеснул луч надежды, что страна помнит о нас и знает о страданиях народа: ночью в наш дом вошли трое бойцов - ЧОНовцев, в белых маскировочных костюмах, сильные, красивые люди! От них мы узнали о Параде на Красной площади 7 ноября, они дали нам газету с речью И. В. Сталина, рассказали, что немцев стали бить, скоро мы услышим о новых победах, что очень трудно в Ленинграде и что скоро нас освободят. Они передвигались на лыжах и исчезли так же внезапно, как и появились, но осталась радость и вера.
С середины декабря село заполонили фашисты: вначале оба двухэтажных здания школы заняла немецкая потрёпанная часть, вернувшаяся с позиций на отдых. Они без конца топили печи и горланили немецкие песни, а также заняли баню. Мы на улицу не показывались, но взрослых забирали на двое суток расчищать заносы, без еды и воды на ночь запирали в пустующем амбаре, в кромешной тьме... Каждый раз мы ужасом думали, что остались без отца. В одноэтажном здании школы фашисты устроили конюшню, разбили все ульи с пчелами и сожгли пчельник. Центральная улица была за рекой, и по ней бесконечно тянулись фуры и двигались отступающие войска, а за ними шли отряды карателей. Враг оставлял за собой пустыню и голод. Там уже почти не осталось домов: горели целые улицы, и уйти было невозможно. В школе разместилась уже другая часть озверевших фашистов, разбитых под Москвой, а в нашей квартире - их штаб. Нам оставили место на кухне и на печи, но там тоже постоянно работал их повар... Мы боялись даже дышать, а немцы, нацепив пионерские галстуки, громко смеялись и шарили по всем углам, не обращая на нас никакого внимания. В сумерки следующего дня, без всяких сборов они просто вытолкали нас на улицу, как и соседей, не разрешив взять еды, одетых кое-как. Даже мой детский чемоданчик растащили на глазах, а в нём хранился золотой медальон, за овальными стёклышками которого находились портреты молодых мамы и папы... Я потом долго-долго его рисовала и до сих пор вижу с болью родные лица в лапах фашистов! Стоял мешок с вещами сестры, не раскрывавшийся с начала войны, его и погрузили на санки и побрели в сгущающуюся темь, неведомо куда... Стоял крещенский мороз, 18 января 1942года... С нами была семья Скворцовых, состоявшая из трёх человек: бабушки, беременной женщины и четырёхлетней дочки Риточки. Ещё до этого мы просили отца уйти на время в лес, как это сделали люди по его совету, но, видя наш беспомощный женский табор, он остался его охранять, да и Скворцовы говорили, что он старый и его не тронут: папа, кроме усов, отпустил бороду. Совсем в темноте прибились мы в деревушку, километрах в трёх от посёлка. Добрая старушка приютила нас всех. У неё три сына на войне, все командиры. Такие фотографии в горнице на стене! И икон много, как у моей бабушки. Она напоила всех горячим чаем с травами. Два дня прошли спокойно, старушка сварила картошки на всех, денег не взяла. Но ночью в дом ворвались финны, громадные и свирепые. Они ругались по-русски, требовали дров и дров. Велели топить печку - железку и русскую, на которую согнали всех нас и Скворцовых. Папе приказали таскать дрова, а хозяйке чистить картошку. Портреты со стены сбросили на пол и с ненавистью растоптали на глазах у матери... Сидеть на раскалённых кирпичах было, как в аду на сковороде. Мы подкладывали под себя все одёжки и руки, беззвучно плакали, но ни спуститься на полати или попросить воды не смели. Фашисты сняли с себя мундиры и били вшей, наслаждаясь жарой впрок.
Вдруг вошёл офицер и сразу приказал отцу: «Ты пойдёшь с нами указывать дорогу, быстро!» - и толкнул его к двери. Мы ничего не сумели ему кинуть, кроме моих вязаных чулок, ведь у папы не было даже рукавиц: может быть, он в них согревал руки... Хромовые сапоги, старенькое дядино пальтецо, а на улице жуткий холод и мороз. «Прощайте, родные мои!» - только и успел он крикнуть... и дверь захлопнулась, оставив нас одних со страшным горем. Вскоре и эти бандиты получили приказ уходить. На прощанье они всё перевернули в избе и высыпали из печки горячие угли на пол и исчезли с диким хохотом, были пьяные. Старушка со слезами заливала угли, и мы тоже в отчаянии разревелись. Ждали рассвета, чтобы выяснить, куда уходили отступавшие фашисты, хотя на запад вела одна дорога. А далее кто знал? Утром нам рассказали, что папу выдал всё тот же бывший завхоз больницы, волею судьбы оказавшийся соседом. Немец искал проводника и остановился на его сыне, но он сказал, что сын болен эпилепсией, а вот рядом есть старик, он старожил здесь и к тому же брат коммуниста... Вот и погнали отца впереди колонны... Мама молча оставила нас и ушла искать убитого отца вдоль дороги, но вернулась к вечеру ни с чем. И это было хоть малой надеждой. Уже вечером, как на работу, пришли каратели-изуверы и со знанием дела стали поджигать деревню со всех концов. Люди, кто в чём, выкатывались на снег, деревянные дома с треском рассыпались, пламя гудело на ветру!
Немцы обмакивали квач в ведро с бензином и подносили огонь под стреху крыши — солома загоралась свечой! Стоял жуткий вой несчастных людей, плакали и дети, и взрослые. Наша хозяйка вынесла свои иконы, едва не погибнув в огне, (сильный старик рванул её из-под рушившейся крыши.) Она поставила все иконы на высокий сугроб ликами в сторону горящей хаты, стала на колени и воздела руки к небу... Вряд ли она молилась! В стороне Передела тоже стояло зарево, слышались взрывы. Обессиленные, обречённые люди не видели выхода, мороз пронимал до костей, и опять появился тот же завхоз. Его дом стоял, как скала: большой, с высоким крыльцом, его не сожгли... Хозяин, видя, что немецкая власть уходит, быстро переменился и стал зазывать народ ночевать к себе в дом, кого на кухню, кого в сени, - добрым стал. Я позже читала в газете, что он даже на военный заём сдал наличными 25 тысяч рублей и получил благодарность. И всё же выжившие раненые доказали его предательство, он был сослан, получив наказание, но и оттуда выполз раньше срока...
Ранним утром мы вернулись в Передел и увидели груду камней и одни головешки: сгорел дом учителей, все постройки, мастерская, взорван один из корпусов школы, в подвале которого сгорела и наша картошка. В другом здании переломаны все парты (ими фашисты топили печи), выбиты стёкла в окнах, а приборы в кабинете физики растоптаны и свалены в кучу! Враги глумились изощрённо! Негде жить, нечего есть, и нет отца. В школе-конюшне прямо на смёрзшемся навозе разместили наших бойцов, настелив соломы и строго запретив курение. Для отопления смастерили печки–бочки, выбитые рамы забили досками. Нас со Скворцовыми поселили в чудом уцелевшей крохотной Учительской, где была печурка. Бойцы соорудили нары, стола не было, ели на подоконниках. В проходе между нарами у нас ночевал капитан-грузин. Он так сочувствовал, так переживал наше горе, кормил пшённой кашей и всё предлагал маме свой аттестат или адрес, чтобы мы поехали в Грузию к его родителям. Мама чистила бойцам мороженую картошку (её размораживали в воде), я помогала ей. Это было то же, что чистить лёд... Думы были о папе. Она стала молчаливая, словно окаменела, днями ходила по дорогам и в окрестные сёла, пытаясь что-нибудь узнать, рассматривала занесённых снегом убитых, ничего не боялась.
и наша картошка. В другом здании переломаны все парты (ими фашисты топили печи), выбиты стёкла в окнах, а приборы в кабинете физики растоптаны и свалены в кучу! Враги глумились изощрённо! Негде жить, нечего есть, и нет отца. В школе-конюшне прямо на смёрзшемся навозе разместили наших бойцов, настелив соломы и строго запретив курение. Для отопления смастерили печки–бочки, выбитые рамы забили досками. Нас со Скворцовыми поселили в чудом уцелевшей крохотной Учительской, где была печурка. Бойцы соорудили нары, стола не было, ели на подоконниках. В проходе между нарами у нас ночевал капитан-грузин. Он так сочувствовал, так переживал наше горе, кормил пшённой кашей и всё предлагал маме свой аттестат или адрес, чтобы мы поехали в Грузию к его родителям. Мама чистила бойцам мороженую картошку (её размораживали в воде), я помогала ей. Это было то же, что чистить лёд... Думы были о папе. Она стала молчаливая, словно окаменела, днями ходила по дорогам и в окрестные сёла, пытаясь что-нибудь узнать, рассматривала занесённых снегом убитых, ничего не боялась.
В феврале открылась и вскоре закрылась школа. Промучились месяц: учебников мало, парт не хватает, классы не отапливаются, нет никаких возможностей всех поместить на одном этаже. И в это же время в здании школы состоялось закрытое комсомольское собрание, где рассматривалось личное дело комсомолки-учительницы Татьяны Ивановны Валуевой. Проходило оно бурно, выступавшие негодовали, требуя крайних мер наказания. Сестра Тани, Нина Ивановна, тоже учительница, жившая также в Переделе, отреклась от неё публично. Заступались за неё только ребята-радисты, заявляя о пользе делу даже от этой любви... Они говорили, что немец был хорошим прикрытием. Но, конечно, Татьяну исключили, и права преподавания в школе лишили, и она исчезла куда-то... Я стояла под дверью класса, слушала всё, конечно, «нелегально», и меня била страшная дрожь, и не только от холода: было жалко и Тани, и её растоптанного чувства, и понимала справедливость большинства. И я думала, что во время войны не до любви!
А зима всё не кончалась, начался голод. В опустошённой местности помощь населению была крайне мала, ещё не налажено регулярное снабжение, да и линия фронта постоянно колебалась. Выдавали по 200 граммов муки, из неё варили какую-то болтушку и делили по 25-30 ложек. Пока стояли морозы, мама и бабушка Скворцова брали санки, топор и ходили в поле рубить конину: там лежали убитые лошади. Это был адский труд: холод, позёмка, топор скользит по костям... Возвращались к ночи, еле волоча ноги и санки. Варили конину без соли, она «мылилась» страшной пеной, но всё равно ели, понемногу добавляя в похлёбку. Ходили по деревням менять вещи на литр молока и мякинную лепёшку, мешок наш быстро «худел»... Однажды маму застиг разлив по ту сторону реки... Весь берег болел за неё, когда уже пожилая женщина с бидончиком в руке перешагивала со сваи на сваю недостроенной плотины над бурлящей водой. Как не закружилась голова с голодухи?! Ведь она отдавала нам почти всю еду, а мы с Витаськой считали ложки похлёбки и не видели этого по-детски эгоистично... Вскоре мама совсем слегла, у неё распухли ноги, темнело в глазах. Теперь уже мы пытались заботиться о маме и бороться за выживание: ходили в поле собирать вымытую водой прошлогоднюю картошечку («тошнотики»), рвали «толкачики», крапиву чуть ли не из земли выковыривали, всё это крошили, разбалтывали с мукой и варили супчик... Носили воду, собирали щепки на стройке старой плотины, совсем присмирели, даже не ссорились. Решили вскопать грядки, у одного бойца стащили лопату и отправились на огород. Полгрядки вскопали, морковку нашли в земле и рады, но тут прибежал этот боец... Уж как он кричал на нас по-своему (нерусский был), руками размахивал, того и гляди ударит... Нам и стыдно, и страшно - мы убежали. А то однажды Виталий белены наелся, нашёл на берегу, на кустике, коробочки с чёрными зёрнышками... Еле молоком отпоили, было тяжёлое отравление.
Вдруг почтарь привёз нам страшное известие о папе! Жительница деревни Некрасовка соседнего Износковского района (теперь это Калужская область) Мария Круглова сообщала, что папа, Король Яков Казимирович, погиб в их деревне и просил перед смертью рассказать об этом семье в селе Передел... Это случилось в конце января 1942 года. Его пригнали немцы и вместе с жителями деревни, выселенными из своих домов, заперли в сарае на околице. Село стояло на горе, в домах они устроили блиндажи и стали строить укрепления. Это было в то время, когда наступление наших войск приостановилось в районе г. Вязьмы и шли ожесточённые бои с численным преимуществом фашистов. Деревни много раз переходили из рук в руки, и враг был очень жесток и озлоблен. Утром они выгоняли народ чистить снег и рыть траншеи. У отца были сильно обморожены руки и ноги, болела челюсть и даже полусырую картофелину, которую ему выделяли крестьяне, не мог грызть, только пить просил или снегу... Наверно, его избивали в пути, ведь он не знал дороги. Он уже не мог передвигаться, но духом был силён. Отец говорил крестьянам, что ещё выпьем со своими солдатами горелки, что немцев скоро погонят дальше. А ещё учил их выбираться из сарая и уходить: «Вас много, и если каждый нароет шапку земли, будет хороший лаз. Уходите ползком, лес близко, а ночью сарай не охраняется, только замки. Немцы в живых никого не оставят: или сожгут, или погонят впереди себя». Папа предвидел эти зверства. И люди послушались его совета, и ушли, и выжили! Тлел маленький костерок, возле него умирал мой отец... Когда немцы вошли в сарай, они зверски пытали его: кололи штыком, разбили голову прикладом! Через два дня Некрасовка была освобождена, шел бой. Жители попросили похоронить папу вместе с погибшими солдатами в братской могиле. Они считали отца своим спасителем. «...А пастух снял с него сапоги и пальто, а документы спалил», - так заканчивалось письмо. Бог ему судья! Ему, наверно, это было нужней... А ещё эта добрая женщина звала маму приходить, и она покажет эту могилу. Мама обессилела от горя, я тоже с ума сходила, винила себя, маму и всех взрослых, что тогда не отпустили папу в лес, он бы остался жив!
Партийные власти и Медынский РОНО приняли участие в судьбе нашей семьи и направили в Бардуковский детский дом, в котором маме дали должность кастелянши, а позднее и воспитательницы. С этого времени для меня и Виталия началось странствие по детским домам. В детском доме были сироты из окрестных деревень. И вот однажды мама оформляла документы вновь прибывших детей и пишет: Круглова Татьяна, Круглов Алексей - и оцепенела. «Откуда вы?» - «Из Некрасовки. У нас опять были немцы, всё пожгли, а мама умерла от тифа... нас баба привезла сюда». Так мама встретилась с этой старушкой: они и наговорилась, и наплакалась, а легче не стало от этих слёз. Ведь мама уже ходила в эту деревню из детского дома поклониться братской могиле, где без имени и фамилии покоится мой отец, который, даже умирая, думал о спасении людей. Но опять «выравнивалась линия фронта», и её не пропустили, несмотря на все мольбы. Потом мама долго болела, а меня и Виталия перевели в другой детский дом, в Подмосковье. То опять приближались бои, и мама увозила младшую группу детей в город Куйбышев. Все находились на военном положении, всё строго. Поэтому она должна была работать в Бардуково, детский дом не прекращал набирать новых сирот... Потом мы уехали в свою разорённую, но любимую Монастырщину, так больше и не побывав на том месте. А эти отдельные захоронения в начале пятидесятых годов объединяли по районам в большие братские могилы, писали списки и возводили обелиски, но нигде там нет фамилии моего отца, и каждый раз в День Победы я твержу:
Я не знаю, где ты похоронен
От родимого дома вдали!
Над тобою берёза ветвей не наклонит,
Лишь горькие травы взошли!
Точнее не скажешь!.. Но до сих пор, спустя 70лет, благодарные земляки помнят его труд, вложенный в обучение, просвещение и воспитание нового поколения советской молодёжи, и имя моего отца Короля Якова Казимировича произносится в стенах школы, где он работал, есть в музеях школы и посёлка, бывает и на страницах районной газеты. Спасибо им!
А ВОЙНА всё шла и шла, было ещё только лето 1942 года... Вскоре фронт опять приблизился, и детский дом стали эвакуировать в другие области страны. Это и стало причиной долгой разлуки с мамой, к тому же в Бардуково была только начальная школа. Мы с Виталием попали в Черкизовский детский дом, в котором до войны находились испанские дети. Их затем перевели в Иваново. Теперь здесь поселили осиротевших детей войны, чьи родители замучены гитлеровцами, в основном партизан. У моей подруги Лиды Тишкиной фашисты казнили обоих родителей, отец был командиром отряда в Калининской области.
Детей спасли партизаны: Лиде было 12 лет, Нине 5 лет, а Саше 3 года. Только при советской власти они сумели выжить, получить образование и воссоединиться! Лида окончила Юридический институт и забрала их к себе в Москву. Я записала себя в пятый класс, посчитав, что со мной уже занимался папа, и месяц училась после оккупации. Как ни странно, но до седьмого класса была отличницей, хотя сменила три школы. Постоянно хотелось есть, младшие даже плакали, порции были тоже маленькие. Иные дети, чтобы продлить удовольствие, ели не ложкой кашу, а пальцем, когда не видел воспитатель, или откладывали её в баночку «на потом». Их называли «мусолями». Была у нас в детдоме повариха Тётя Настя. Она постоянно приговаривала, накладывая наши тарелочки: «Ой, матушки, проделюся! Проделюся я!» - и порции становились всё меньше и меньше... Не любила нас, а мы её тоже и придумали такой стишок: «Тётя Настя! Щи кипят, каша подгорела, все ребята есть хотят! - «А мне какое дело?!» Я и сейчас чётко вижу её лицо с металлическими зубами в раме раздаточного окошка кухни. Вожатая была замечательная, из «испанских детей». Осталась здесь работать, звали её Людмила. У неё на левой руке не было двух пальцев (ранение в Испании), но она никогда не унывала и нас тому же учила. Была такая заводная, энергичная, какая-то целеустремлённая, придумывала пионерские задания, выступления, поездки к раненым в госпиталь, и не с пустыми руками. По-русски хорошо говорила и пела. У нас были добрые воспитатели, они по-матерински жалели детей, иногда приглашали к себе в гости на выходной по 2-3 человека. Беатриса Марковна, музыкальный работник, разучивала новые песни о войне, а мы потом ездили в Мытищи в госпиталь со своим концертом. Помню, как нравился «Вечер на рейде»! В госпитале также писали раненым письма домой. Ещё участвовали в операции «Колосок»: в колхозе нам выдавали сумки, и мы цепочкой шли по стерне, собирая на земле колоски, потерянные при уборке. Их было немало, но стерня больно колола руки и ноги... При детдоме была штамповочная мастерская, оставшаяся от пребывания испанских детей. Наши мальчики-старшеклассники выдавали продукцию: из стальных заготовок-лопаточек штамповали чайные и кофейные ложечки. Одна до сих пор хранится как память.
В это суровое и очень голодное время наши с Виталием сердца по-родственному сердечно отогревали две московских тётушки. Тетя Мара и тетя Дуня, иногда нас отпускали к ним на выходной. Особенно опекала нас тетя Дуня, деля в эти дни свою иждивенческую хлебную карточку. Ей приходилось выкупать паек на два дня вперёд. Так как нам ни разу не выдавали с собой наше «довольствие». Хлеба выдавали по 400 граммов в день. Она водила нас в кино и зоопарк, даже в коммерческое кафе пить чай с вкусными бутербродами; какие-то пирожки давала с собой, провожая до поезда, а иногда навещала в детдоме. Жила тем, что сдавала вещи в ломбард, чаще всего не имея средств, чтобы их вовремя выкупить, нарастали проценты, или в комиссионный магазин относила своё рукоделие. Она прекрасно вышивала мелким крестом художественные миниатюры, плела из тесьмы яркие пояса. Своих детей не было. Мы повисали у неё на шее: так любили.
На Новый Год старших возили в Москву в Колонный Зал на главную ёлку страны, там выдавали большие пакеты с подарками! А как понравилось выступление артистов у ёлки, особенно клоуны. Были мы и на празднике «Книжкины именины» там же, где встречались с «настоящими» детскими поэтами: Маршаком, Чуковским, Берестовым, Михалковым и Агнией Барто. Они все очень сердечно и просто беседовали с ребятами и читали со сцены знакомые и новые стихи, и казалось, что всё страшное прошло. Я думала, как бы радовался папа этой моей встрече с авторами любимых книжек, и тихонько вытирала слёзы. В последующей моей жизни мне всегда не хватало отца.
В начале февраля 1943 года в детдом прибыла комиссия из Москвы  отбирать девочек с хорошим музыкальным слухом в интернат при Музыкальном Училище имени Октябрьской революции, всего 20 человек. Страна и в годы войны стремилась помочь развитию способностей наиболее одарённых детей. Комиссия объехала в Подмосковье 10 детских домов, отбирали очень строго, и у нас выбрали Лиду Тишкину, Нину Булыгину и меня. Горьким было моё расставание с Витаськой, ведь он оставался один, без защиты, и его потом часто обижали старшие мальчики и таскали его «запасики». Позднее я и Лида приезжали в свой детдом не раз навещать наших младших и привозили для них свои гостинцы, откладывая от собственных полдников. Это и были «запасики». Когда мы приезжали, ночевать нас брала к себе домой директор детдома Зинаида Аркадьевна. Кстати, когда в следующем году собирались создать при том же училище и группу мальчиков, Виталий прошёл отбор, но это так и не состоялось из-за экономических трудностей, да и мама его «нашлась», прорвалась в Москву без пропуска и увезла сыночку своего в Монастырщину!
отбирать девочек с хорошим музыкальным слухом в интернат при Музыкальном Училище имени Октябрьской революции, всего 20 человек. Страна и в годы войны стремилась помочь развитию способностей наиболее одарённых детей. Комиссия объехала в Подмосковье 10 детских домов, отбирали очень строго, и у нас выбрали Лиду Тишкину, Нину Булыгину и меня. Горьким было моё расставание с Витаськой, ведь он оставался один, без защиты, и его потом часто обижали старшие мальчики и таскали его «запасики». Позднее я и Лида приезжали в свой детдом не раз навещать наших младших и привозили для них свои гостинцы, откладывая от собственных полдников. Это и были «запасики». Когда мы приезжали, ночевать нас брала к себе домой директор детдома Зинаида Аркадьевна. Кстати, когда в следующем году собирались создать при том же училище и группу мальчиков, Виталий прошёл отбор, но это так и не состоялось из-за экономических трудностей, да и мама его «нашлась», прорвалась в Москву без пропуска и увезла сыночку своего в Монастырщину!
Здание училища находилось в Вадковском переулке, это был старинный особняк с фонтаном и садиком. В интернате девочки жили одной большой семьёй, как сестры. Обучали нас и домоводству, учили вышивать, и когда однажды к нам в интернат пришла огромная посылка из Рязани, наша классная комната превратилась в пошивочный цех. В посылке были платья из ярких, весёлых тканей, мы сразу разыграли их по жребию и бросились примерять. Вышел весёлый маскарад, платья были до пят! Зато было что кроить и перешивать! До этого нас одевали или всех одинаково или каждый донашивал свою домашнюю одёжку, из которой все мы успели прилично вырасти... Исключением была школа и выходы в город: тогда надевали особую форму, но тоже одинаковую. А хотелось чего-то личного, особенно на фотокарточках! От нас тоже ушла на фронт посылка, собирали её вместе со студентами музыкального училища. Мы шили и вышивали солдатам кисеты, тщательно, стежок к стежку, а воспитатели вкладывали туда наши адреса и пачку махорки. И сейчас вижу свою работу: три камышинки на воде, одна надломана... От бойцов приходили ответные письма. Они называли нас сестрёнками. У некоторых девочек никого не было, и переписка продолжалась. Мы научились дружить и заботиться друг о друге, если кто из нас заболел; научились уступать и радоваться удачам подруг. Эти стороны нашего поведения в нас вырабатывали воспитательницы: Елизавета Ивановна Мусина и Варвара Петровна Верещагина. Их имена, как и доброе и одновременно требовательное к нам отношение никогда не изгладятся в памяти. Наш любимый директор, профессор музыки Иосиф Павлович Мусин любил нас всех, как своих дочерей, хотя своих детей и не было. Впоследствии семья Мусиных удочерила двух девочек, Лиду Суровцеву и Тоню Наездникову, обе окончили консерваторию. Мы радовались его приходу, окружали плотным кольцом и спешили доверительно рассказать все свои новости, просьбы. Никто не оставался без ответа, решение принималось немедленно, потому и не было раздоров: его слово - закон. Как счастливы мы бывали, если его рука погладит по головке, поправит галстук или обнимет за плечи. Очевидно, нам не хватало отеческой ласки, и он это чувствовал.
 Иногда Иосиф Павлович приходил к нам под вечер просто пообщаться. Он рассказывал о своей молодости, о студенческих годах в Казани, о революции и Гражданской войне, разные случаи из своей биографии. В интернате отмечались наши Дни Рождения, подарки придумывали сами, и их было сразу много! А ещё это могла быть и песенка или исполненная на рояле пьеска, иногда собственного сочинения, что всегда поощрялось. Иосиф Павлович преподавал у нас сольфеджио, музграмоту и многоголосное пение, работал с солистами и обучал игре на домре в струнном оркестре. Он сам сочинял музыку больших и малых форм, а «Песня о Днепре» была напечатана в газете «Правда», и мы исполняли её с большим воодушевлением!
Иногда Иосиф Павлович приходил к нам под вечер просто пообщаться. Он рассказывал о своей молодости, о студенческих годах в Казани, о революции и Гражданской войне, разные случаи из своей биографии. В интернате отмечались наши Дни Рождения, подарки придумывали сами, и их было сразу много! А ещё это могла быть и песенка или исполненная на рояле пьеска, иногда собственного сочинения, что всегда поощрялось. Иосиф Павлович преподавал у нас сольфеджио, музграмоту и многоголосное пение, работал с солистами и обучал игре на домре в струнном оркестре. Он сам сочинял музыку больших и малых форм, а «Песня о Днепре» была напечатана в газете «Правда», и мы исполняли её с большим воодушевлением!
День был заполнен до отказа, ведь обучение шло по программе «год за два» и ходили в общеобразовательную школу для девочек. Она была близко, как и Дворец Пионеров, где нам всегда были рады. Там проходили интересные встречи: Корней Чуковский читал своего «Бибигона», две девочки, почти наши ровесницы, рассказывали о том, как спасли полковое знамя, забрав его у убитого знаменосца вместе с его документами, и вынесли знамя через линию фронта! Их наградили орденами « Великой Отечественной войны» и ценными подарками. Была ещё встреча с мамой Зои Космодемьянской. Ей очень долго аплодировали стоя, не желая садиться. В Москве нас приобщали к классической культуре: возили в музеи и консерваторию, в настоящем театре впервые посмотрела «Горе от ума», а также в цирк и на главную ёлку страны в Колонный Зал. Время ещё было  тяжёлое, голодное, кормили нас значительно хуже, чем в детдоме. Иногда это были щи из крапивы или из лебеды, вместо подсолнечного масла заправляли хлопковым, но никто не роптал, ведь мы знали времена и похуже, Мы - Дети Войны... Летом «на поправку» выехали в пионерский лагерь в Малаховку Конечно, лес, речка, солнце, здоровый режим пошли на пользу, да и с едой в лагере дело поставлено строго, постоянные проверки качества и количества. К осени 1943 года улучшилось и наше содержание в интернате, поменяли завхоза и повысили категорию питания, приравняв его (на время) к детским санаториям. Мои тётушки перелицевали дядину куртку мне на пальто и такой же берет за одну ночь! Это казалось вершиной красоты, стала не ходить, а летать от счастья! До этого было «форменное» серенькое сатиновое пальтецо без воротника, слишком лёгкое для зимы, но у нас всё было близко, и мы бегали бегом!
тяжёлое, голодное, кормили нас значительно хуже, чем в детдоме. Иногда это были щи из крапивы или из лебеды, вместо подсолнечного масла заправляли хлопковым, но никто не роптал, ведь мы знали времена и похуже, Мы - Дети Войны... Летом «на поправку» выехали в пионерский лагерь в Малаховку Конечно, лес, речка, солнце, здоровый режим пошли на пользу, да и с едой в лагере дело поставлено строго, постоянные проверки качества и количества. К осени 1943 года улучшилось и наше содержание в интернате, поменяли завхоза и повысили категорию питания, приравняв его (на время) к детским санаториям. Мои тётушки перелицевали дядину куртку мне на пальто и такой же берет за одну ночь! Это казалось вершиной красоты, стала не ходить, а летать от счастья! До этого было «форменное» серенькое сатиновое пальтецо без воротника, слишком лёгкое для зимы, но у нас всё было близко, и мы бегали бегом!
Однажды с фронта приезжал брат Виктор, он навестил меня в интернате, когда я болела. За героический поступок на фронте он был награждён Орденом Красной Звезды и краткосрочным отпуском на родину. Он посетил тогда Москву и встретился с сестрой в Монастрыщине на наших пепелищах.
...Никого не было вокруг, и мы, обнявшись, молча плакали... Что говорить?!! Витя подарил мне первые духи в жизни, они назывались непонятно, но красиво: «Мои грёзы». Он очень хотел, чтобы я училась музыке, и Иосиф Павлович в беседе с ним хвалил мои успехи, но сердце моё бунтовало: Виталия сестра забрала, у меня есть мама, но почему я тут?! Конечно, в письмах к ней жаловалась на то, что ей не нужна...
А мама перенесла операцию, жила в очень стеснённых условиях, трудилась на двух работах в детдоме и думала только обо мне. О ком же ей ещё думать? Она вышила для меня красивую кофточку, писала нежные письма и в уголке непременно что-то рисовала: птичку в гнёздышке, зайчика под ёлочкой на лесной полянке, солнышко над речкой... О, детский эгоизм, как ты жесток! Упрям! Даже сейчас, когда пишу и думаю об этом времени, мне больно за маму и стыдно за себя... А девочки завидовали мне и этим письмам: ведь у меня была мама! Но и она не вынесла этой муки. Подобно сестре, без пропуска, отпросившись на три дня, вырвалась в Москву. Все подружки, 20 девочек, подарили мне свои фотокарточки, которые я бережно храню в своём школьном альбоме и помню их поимённо. Мама подхватила меня, и где пешком, где в открытом кузове военной машины, мы добрались до Медыни. Здесь, не заезжая даже «домой» в Бардуково, я должна была вновь проститься с мамой. И опять одиночество, жизнь со сторожихой при школе: директор, Ефим Львович Левитин разрешил жить бесплатно.
не вынесла этой муки. Подобно сестре, без пропуска, отпросившись на три дня, вырвалась в Москву. Все подружки, 20 девочек, подарили мне свои фотокарточки, которые я бережно храню в своём школьном альбоме и помню их поимённо. Мама подхватила меня, и где пешком, где в открытом кузове военной машины, мы добрались до Медыни. Здесь, не заезжая даже «домой» в Бардуково, я должна была вновь проститься с мамой. И опять одиночество, жизнь со сторожихой при школе: директор, Ефим Львович Левитин разрешил жить бесплатно.
Училась отлично, директор всегда давал ключ от зала, где стояло пианино. Играла свою программу, участвовала в художественной самодеятельности, была единственным «музыкантом» и самостоятельно жила в 13 лет. Директор выхлопотал в РОНО для меня хлебную карточку! Раз в две недели прибегала мама на пару часов, чтобы купить на рынке картошки, четвертинку льняного масла и пару луковиц, иногда пяток яиц или кусочек сала, да там по нашим деньгам и купить было нечего. До Бардуково 18 километров, надо засветло пройти, вся дорога через лес, жильё всё сожжено. Я и сама по весне после уроков босиком, «ноги в руки», мчалась этим путём К МАМЕ! А деньги нам нужны на дальнюю дорогу в Монастырщину! Едем в начале июня, как только сдам испытания. И я считала дни!
 В седьмой класс перешла отличницей, с трудом и за большие деньги договорились подвезти нас на попутной машине до местечка. Говорят, что на родине кустик ночевать пустит... А у нас из всей «недвижимости» остался только камень, темно синий валун, что прежде лежал возле ворот старенького бабушкиного домика (он и сейчас украшает Краснинскую улицу приглашая присесть)…
В седьмой класс перешла отличницей, с трудом и за большие деньги договорились подвезти нас на попутной машине до местечка. Говорят, что на родине кустик ночевать пустит... А у нас из всей «недвижимости» остался только камень, темно синий валун, что прежде лежал возле ворот старенького бабушкиного домика (он и сейчас украшает Краснинскую улицу приглашая присесть)…
Вернулись мы на свои пепелища и снова в голодный край. Но ехать обратно или искать чего - то лучшего и в мыслях не было: видно, крепко нас держала родная земля.
Учиться в полуразбитой школе было очень трудно: тепло от печей не держалось, только дым, замерзали чернила, не хватало учебников и тетрадей, ими награждали за хорошую учёбу. Писали на газетах и ненужных книгах. Ученики первой смены носили с собой «личное» освещение: коптилки. Их, чаще всего, изготавливали из сплющенных снарядных гильз, но лучшим считался кусок горящего «плекса» от кабины самолёта... Лампа была только на столе учителя. Но и в это трудное время для детей младших классов в школе нашли возможность выдавать на полдник стакан тёплого чая и кусочек хлеба с повидлом!
Несмотря на все нехватки, в нас била энергия юности, мы всюду успевали, часто в ущерб занятиям: собирали вещи и деньги в поддержку Троицкого детского дома, участвовали в самодеятельности, летом заготавливали торф на болоте за Вихрой. Задание не маленькое: по четыре тысячи кирпичей нарезать, стоя в воде, затем сложить в пирамидки для просушки. Осенью учебный год отодвигался на месяц. Работали на колхозных полях бесплатно.
Копали картошку, лён обмолачивали, никакой техники не было, Всё вручную! Помню, как на Дудине молотили рожь цепами на току, идя по кругу друг за другом. Всё равно работа нравилась, никто не отлынивал, даже пели, шутили, выпускали сатирическую «Колючку», на привале пекли картошку. Учителя трудились с нами наравне.
Всё можно перенести: и голод, и холод, и неустроенный быт в течение долгих лет войны, но нельзя забыть и простить немецко-фашистским захватчикам те зверства, которые они сотворили на нашей советской земле! Мы верили в Победу и во имя неё отдавали последнее: подписывались на военные займы, колхозники собирали средства на строительство танковой колонны, лично экономили на всём! «Всё для фронта! Всё для победы!» - и ПРИШЁЛ ЭТОТ ДЕНЬ! В ночь 9 МАЯ не ложились спать, с подругами бегали по улицам местечка, стучали в окна и поздравляли людей: «Война закончилась! Победа»!!
Отменили занятия в школе, и было первое почти стихийное всеобщее шествие на митинг. Хотелось эту радость пережить вместе, люди обнимались и плакали, много было слёз и у нас.
За годы войны мама была награждена медалями «За трудовую доблесть» и «За победу над Германией».
Сестра Тамара и Витали1 встретились с папой Филей только в 1946 году и уехали в Восточную Германию, где он продолжал военную службу в звании майора Советской Армии.
Брат Виктор навестил нас летом того же года. Бедная моя мама ждала этой встречи СЕМЬ тревожных лет, с 1939 года!
Я рассказала горькую правду о войне, прокатившейся всей тяжестью по нашему семейству и моей многострадальной Смоленщине, как она отложилась в моём чутком детском сердце и памяти.
ЭТО НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ!
Елена Король, 2008 год, п. Светлый.